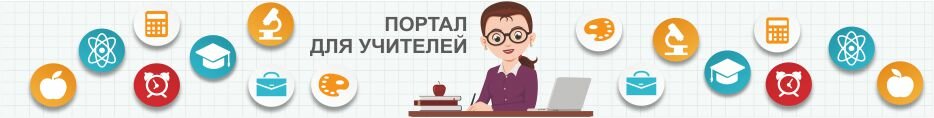| Главная » Статьи » Русский язык и литература | [ Добавить статью ] |
|
“Явленная тайна” Творчество Бориса Пастернака Долгое время Бориса Пастернака числили среди писателей, абсолютно недоступных для детей и подростков, и к тому же рисовали одиноко пребывающим вдали от магистральных путей литературы. Ощущение сложности и неординарности Пастернака у многих читателей и преподавателей сохраняется, но очень часто, как некая болезнь, скрывается. Похоже, что сбылось давнее предсказание Марины Цветаевой: “Если Вас будут любить, то из страха... боясь "отстать"”. В ряду известных пастернаковских цитат — знаменитые строки из цикла “Волны”: Есть в опыте больших поэтов Черты естественности той, Что невозможно, их изведав, Не кончить полной немотой. В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, Когда ее не утаим. Она всего нужнее людям, Но сложное понятней им. Не обходят этих строк и учителя, часто полагаясь на как будто бы самоочевидную откровенность содержания. А ведь они загадочны: как это сложное может быть понятнее простого? Видимо, речь ведет человек, похожий на ребенка, для которого сложность прежде всего неестественна. У раннего Пастернака немало образов витиеватых, темных, но многое у него и просто, только — добавлю — неожиданно просто. Недаром та же Цветаева бросила: “Ваша тайнопись — детская пропись”. И это отнюдь не фантастические прожекты — сам видел, как завороженно слушали девяти - двенадцатилетние ребята отдельные строки поэта. Свежестью и самобытностью Пастернак способен сразу покорить, а потому начинать надо с чтения стихов наиболее “прозрачных”, доступных детям. Центр его эстетики и творчества — природа как “явленная тайна”, неиссякаемый источник чудес и удивления. Даже сама поэзия здесь буквально “валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли”. Вот почему в пастернаковских стихах и прозе не только человек воспринимает окружающее, но и ветки, дождь, деревья. Жизнь наблюдают и обсуждают людей (“Душная ночь”, “Заморозки”, отрывок из повести под названием “Петербург”), вот почему писатель особенно ценит в искусстве органичность, непринужденность, обостренную восприимчивость и естественность; те произведения, где “кончается искусство, / И дышат почва и судьба”. Сразу же важно подчеркнуть, что Пастернак — поэт, которого не без оснований называют романтиком, — последовательно, на протяжении всей своей жизни настаивал на реалистичности творчества. Искусство, в его глазах, прежде всего — открытие жизни: “Мы перестали узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состоянием. Помимо этого состояния все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство”. Пастернак считал, что реализм не направление, а сама природа искусства, и недолюбливал романтизм с его тягой к сверхчеловеческому и искусственному, а не естественно человеческому. При этом единство мира у Пастернака — это не только идея или эстетический принцип, но и атмосфера его произведений. Романтические контрасты менее предпочтительны, чем связи, “существованья ткань сквозная”. Мир, в понимании и ощущении поэта, — живой, и воспринимается он целостно. Однако он и преображается на волне чувств: “Мирозданье — лишь страсти разряды, / Человеческим сердцем накопленной”. При очевидном стремлении раствориться в жизни Пастернак, тем не менее, на дух не принимал общих мест, везде, даже в переводах, он — творец. Он — новатор, но не в средствах выражения, а в оригинальном образе мира — мира, увиденного впервые, открытого силою любви: Любимая — жуть! Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный. И хаос опять выползает на свет, Как во времена ископаемых. Он — демиург, поскольку обладает той самой первозданностью, которую особенно ценит и в природе, и в людях: “Мне кажется, я подберу слова, / Похожие на вашу первозданность”, — как сказано в послании “Анна Ахматова”. Знаменитый адресат откликнулся соответственно: “Он награжден каким-то вечным детством”. И действительно, пастернаковское отношение к миру — по-детски непосредственное. Но время для него — не только переживаемый момент, это и переживаемая вечность. Бальмонтовская полнота ощущения данной минуты обогащается вековечным, им опять-таки не поглощаясь. Отсюда — такие заголовки, как “Гроза моментальная навек”, отсюда — знаменитая формула об импрессионизме вечного. Таковы общие для Пастернака и исходные для ученического знакомства с ним художественные принципы. Они определили известное постоянство стиля писателя. Но наряду с единым образом мира мы обнаружим у него и романтическую “страсть к разрывам”, тягу к решительным изменениям и даже переписыванию давних своих вещей. Все это побуждает выстраивать оставшиеся уроки в логике рассмотрения основных звеньев творческой эволюции Бориса Пастернака. Вторую тему можно озаглавить строчкой “На заре молодых вероятии” — речь пойдет о первых четырех поэтических книгах, с акцентом на лучшую — “Сестра моя — жизнь”. Сразу же захватывает интонационно-речевое своеобразие, почувствовать которое можно лишь при целостном восприятии стихотворений. “Метель”, “Душа”, цикл “Разрыв”, многие другие произведения звучат исступленно, нередко сбивчиво, синтаксис их сложен. Литературный дебют Бориса Пастернака необычен. Стихи и прозу он начал писать лишь в 19 лет, но зато очень рано и очень интенсивно занимался музыкой. И хотя сам рисовал неважно, весьма интересовался современным изобразительным искусством. Существенна и родословная поэта (сын академика живописи и известной пианистки), и общехудожественная одаренность его поколения “с перевесом живописных и музыкальных начал”. Эти приоритеты определились в ведущих течениях литературы начала XX века — символизме, ориентировавшемся на музыку, и футуризме, раньше всего зародившемся у живописцев. Пастернак вступал в поэзию в составе футуристической группы “Центрифуга”, но испытывал к тому же сильнейшее воздействие Блока и Белого. Отсюда — его необычность на фоне и тех, и других. Поэт неоднократно оценивал свои ранние стихи как экспериментальные, авангардистские. Действительно, характерные для представителей кубизма совмещения и смещения предметов постоянно встречаются в книгах “Близнец в тучах” и “Поверх барьеров”. Стиль здесь не просто сложен — он нарочито усложнен. Если судить по заголовкам стихотворений, то раннего Пастернака можно заподозрить даже в известном рационализме. Заглавиями он определяет предметы, о которых пойдет речь, причем обычно это нечто неосязаемое: “Душа”, “Поэзия”, “Определение души”, “Определение поэзии”, “Тоска”, “Определение творчества”. Однако разговор получается не прямым, а окольным — он ведется ассоциативно, около предмета. Не удивительно, что одна из четырех ранних книг названа “Темы и вариации”, а одно из стихотворений озаглавлено “Три варианта”. У Пастернака — в отличие от его кумиров Фета и Блока — заглавие почти обязательное и, как правило, разъяснительное. Ранний пастернаковский стиль осложнен обилием историзмов (типа молокане, стиль жакоб, мясоед), терминов из разных областей, позабытой фразеологии, просторечий. Пример таких объяснений учитель может найти в статье Н. М. Шанского “Среди поэтических строк Б. Л. Пастернака”. Следующий этап — постижение специфики образов. Они не только сами по себе наглядны (“...как обугленные груши / С деревьев тысячи грачей”; “Размокшей каменной баранкой / В воде Венеция плыла”; “Я клавишей стаю кормил с руки / Под хлопанье крыльев, плеск и клекот”), но и сочетаются по принципу смежности, метонимически. Пастернак стремится многократно и многообразно определить явление — некоторые стихотворения строятся как цепь, обвал сравнений. Причем ассоциации зрительные сочетаются у поэта с ассоциациями культурными и социальными, в действие одновременно включаются несколько оттенков слова: Я не держу. Иди, благотвори. Ступай к другим. Уже написан Вертер, А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно что жилы отворить. Любопытно, что Пастернака многие знают именно по отдельным строкам, запоминают их, восторгаются ими. Но, занимаясь деталями, мы не должны забывать о цельности восприятия. Иногда живописное и музыкальное начала откровенно борются здесь (самый красноречивый и знаменитый пример — стихотворение “Марбург”). Но есть среди первых пастернаковских вещей и такие, в которых определения естественно перетекают в сквозной лирический сюжет. Это “Сон”, “Ледоход”, “После дождя” — стихотворения, достаточно ясные, чтобы стать опорными для анализа в классе. Подавая примеры до сих пор, мы намеренно обходили стороной самую значительную книгу раннего Пастернака — “Сестра моя — жизнь”. Принципы организации, присущие отдельным произведениям, здесь касаются построения и развертывания книги в целом. Почти в каждом стихотворении поэт захватывает большой круг явлений, уплотняя их. При этом он обнаруживает единство не только высоких, собственно поэтических тем природы, любви и искусства — в них постоянно входят, их пронизывают бытовые реалии. К самому Б. Пастернаку можно отнести слова Тони из ее письма Юрию Живаго: “Я люблю все особенное в тебе, все выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо”. Но есть в авторе “Сестры моей — жизни” и то, что безусловно выделяет его — это непосредственность детства. В окружающем он ищет первозданное и, одаренный несравненной полнотой ощущения мира, способный в миге находить вечность, открывает изначальное: Закрой их, любимая! Запорошит! Вся степь как до грехопаденья: Вся — миром объята, вся — как парашют, Вся — дыбящееся виденье! В письме Н. Асееву Пастернак писал о своей третьей книге: “Я одно время серьезно думал ее выпустить анонимно; она лучше и выше меня”. Иногда действительно кажется, что “я” перетекает в природу, становясь одним из ее проявлений (“Спи, подруга, — лавиной вернуся”). Иногда возникает впечатление, что книга безлюдна: сад заполняет пространство, вваливается в дом. Но все такие метаморфозы, все такие видения одухотворены любовью. Чувство заостряет, увеличивает, преображает предметы. Отсюда — гиперболизация, экспрессивность и метафоризм пастернаковского стиля. Уяснить сущность и особенности поэтики “Сестры моей — жизни” можно на примере стихотворений “Ты в ветре, веткой пробующем...”, “Степь”, “Душная ночь”, “Гроза, моментальная навек”, стараясь не утратить при разборе изначального ощущения свежести образов и настроений. Третья тема — “Вечности заложник у времени в плену”, или “Пастернак и революция, Пастернак и эпоха” — на мой взгляд, обязательна, необходима, хотя рассматривать ее допустимо и долго и коротко: и в один, и в четыре урока — в зависимости от установок и вкусов учителя. Одна из расхожих легенд, которую азартно утверждали советские критики, а теперь (с противоположной оценкой) готовы унаследовать, кажется, сегодняшние авторы, — о Пастернаке — затворнике и эстете. Однако недаром уже В. Брюсов писал, что его стихи, “может быть, без ведома автора, пропитаны духом современности”. Время — та реальная атмосфера, в которой существовал поэт. Оно проникало в поры, оно сковывало, и оно воодушевляло. В одном из ранних выступлений поэт противопоставлял Лирику и Историю как две противоположности. Но позднее он же с гордостью мог произнести: “Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку”. В романе “Доктор Живаго” есть важная фраза: “С каждым случилось по две революции, одна своя, личная, а другая общая”. Личное ощущение истории у Пастернака было сильным, но проявлялось оно разнообразно: в форме прямого хроникального изображения (поэмы 20-х годов) и в форме изображения параллельного или косвенного (драматические отрывки о Великой французской революции), в форме прямых, достаточно резких оценок (стихотворения, подобные “Русской революции”, “Мутится мозг. Вот так? В палате?..”) и особенностях лирического стиля. Делать акцент на чем-то одном — означает говорить полуправду. Надо разбираться. Неизгладимое впечатление произвела на будущего поэта первая русская революция. С воодушевлением принял он и революцию Февральскую, но ощущения свои выразил весьма своеобразно — книгой “Сестра моя — жизнь”, где воссоздана стихия природная: “В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью и именем, казался ясновидящим и воодушевленным”. Время захватило и увлекло поэта. “Вдруг стало видимо во все концы света” — это эпиграф из Гоголя к стихотворению “Распад”, которое может прозвучать в классе, демонстрируя ту динамику стиха, одновременно мажорного и тревожного, ту взвихренность образов, которая характерна для книги в целом, где главенствуют ветры и грозы, ливни и метели. В те же тона было первоначально окрашено и восприятие революции Октябрьской. Но, не касаясь даже отдельных резких публицистических откликов, необходимо заметить, что драматизм в отношении к эпохе постепенно нарастал — уже в “Темах и вариациях” он явно повышается. В отличие от многих поэтов-современников, Пастернак отнюдь не восторгался затерянностью уникальной личности среди множеств, в длинном железнодорожном составе: “Мы были людьми. Мы эпохи. Нас сбило и мчит в караване...”. “Время существует для человека, а не человек для времени”, — полагал он. До какой-то поры сумбур революционных дней весьма соответствовал сумбуру чувств, и тогда возникало ощущение спасительного самообмана: Всю жизнь я быть хотел как все, Но век в своей красе Сильнее моего нытья И хочет быть, как я. Однако век все меньше походил на лирического героя и людей его круга — все больше на Ленина и ленинцев. Кульминация осознания этого приходится в 20-е годы на поэму “Высокая болезнь”, которая и цитировалась. В ней сходятся, может быть, более четко сформулированные в других произведениях и выступлениях мысли о неизбежности революции, ее нравственном смысле, жертвенное понимание своей собственной судьбы (“Я говорю про всю среду, / С которой я имел в виду / Сойти со сцены и сойду. / Здесь места нет стыду”). Считая, что “эпос внушен временем”, поэт создает две большие поэмы “Девятьсот пятый год” и “Лейтенант Шмидт”. И совершенно определенно можно сказать, что в этих вещах, написанных не только на автобиографическом, но и на документальном материале, стиль эпохи, переклички с Маяковским и Асеевым выразились сильнее, нежели стиль индивидуальный. У нас нет никаких оснований сомневаться в неподдельности, искренности пути поэта. Его терзали противоречия (см. послание “Борису Пильняку”, датированное 1931 годом), однако тогда же, в начале 30-х, создавалась и лирическая книга “Второе рождение”, полная не только проникновенных, органичных произведений, но и компромиссов. Но почти тогда же, в середине 30-х, служение эпохе перерастает в конфликт с нею. Позднее этот перелом будет вновь пережит и осмыслен в романе “Доктор Живаго”, анализ которого и завершит рассмотрение эволюции взглядов Пастернака на революцию. |
Чтобы скачать материал, пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь! Это быстро ! )
Категории
| Математика, алгебра, геометрия [1729] |
| Книги (Это интересно) [351] |
| Видеоуроки [26920] |
| География [2660] |
| Дополнительное образование [401] |
| ЕГЭ/ГИА [266] |
| Информатика [1187] |
| История / обществознание [4663] |
| Для Логопеда [500] |
| Материалы для коррекц. классов [400] |
| ОБЖ [558] |
| Презентации [402] |
| Для Психолога [514] |
| Физическая культура [529] |
| Черчение [121] |
| Шаблоны презентаций [466] |
| Для Библиотекаря [160] |
| Праздники [419] |
| Интересные Видеоролики [12] |
| Английский язык [791] |
| Иностранные языки (прочие) [461] |
| Окружающий мир [873] |
| Биология и экология [1643] |
| Всем учителям [508] |
| Для директора и завуча [1042] |
| Дошкольное образование [1238] |
| Искусство [804] |
| Для Классного руководителя [543] |
| Начальные классы [718] |
| Основы религиозных культур [137] |
| Программы и Софт [21] |
| Родной язык [505] |
| Русский язык и литература [3915] |
| Технология [1000] |
| Физика [1263] |
| Химия [1297] |
| Экономика [905] |
| Астрономия [444] |
| Писатели [113] |
| Классный час [527] |
| Шаблоны документов [85] |
| Другое (Прочее) [412] |